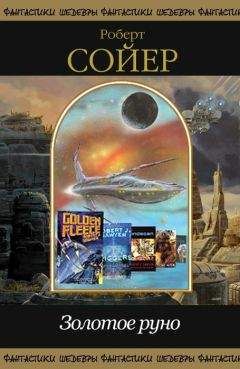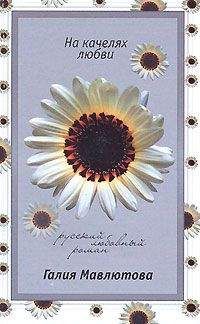Она поджала губы. Молчала, разглядывая парторга в упор, будто раздумывая, говорить ли с ним.
— Вы отпускаете сразу двоих братьев Костиных. Я уж не говорю, что уезжают и их жены, телятницы нашей фермы.
— Ну и что? Не они одни! Да и свет на них клином не сошелся!
— Это хорошие специалисты.
— Уходит мусор, хорошие остаются!
— Вы уверены в этом? — спросил Дмитриев, понимая уже всю нелепость своего вопроса, поскольку ни в чем она не была уверена, никаких своих мыслей на этот счет не имела, слово в слово повторяя выражение директора.
— А если и не уверена, так что? Вон у нас еще каменный дом построен — еще приедут, только квартиру дай! Делов-то палата!
Дмитриев молча покачал головой и, не простившись, направился к Костиным.
За молодой ольховой порослью показалась темная драночная крыша бывшей начальной школы, где жили сейчас две семьи. Небольшой подъем в горку. Ленивый лай собаки за сараем. Кругом порядок: от стен отброшен снег, покрашен ящик для газовых баллонов. «Как-то сложится разговор?..» — подумалось Дмитриеву. Он тщательно обколотил ботинки о порог и решительно отворил дверь.
— Добрый вечер!
— Здравствуйте! — услышал Дмитриев, не сразу различая людей и предметы, попав из солнечного света в полумрак.
— Здравствуйте! — послышался еще один голос из темного простенка меж двух полузавешенных окон.
Дома были оба брата Костины. Брат хозяина дома, Валентин, только одно лето проработал в совхозе на комбайне. Он дотянул до весенних школьных каникул, взял расчет, но уехать сразу не смог, а потом не рискнул ползти через всю страну на старое место, в Казахстан, во время учебного года. Директор потребовал освободить квартиру. Валентин поупирался, попросил разрешения пожить до конца учебного года, но директор настаивал, даже звонил в милицию, что человек рассчитался и не работает нигде. Валентин устроился временно и перебрался к брату вместе с женой и дочерью, пятиклассницей. Из-за нее-то он и не снялся с места, а в каникулы застопорило дело с переездом. «А хороший был комбайнер…» — подумал Дмитриев, слегка прислоняясь к стенке от усталости, но не физической, а нервной. — Однако при нем начать или не стоит?»
— Костин, вы знаете, зачем я пришел?
— Знаю, Николай Иванович… — Он вышел к свету, хорошего роста, сухощав в меру, сел на табурет напротив и чуть набычил упрямый, закинутый к маковке лоб в белой опушке волос.
— Говорить будем начистоту? — Дмитриев посмотрел на Валентина.
— Давайте начистоту, — с трудом выговорил Костин, — а при нем можно, он все знает.
Дмитриев, опасавшийся, что Костин не станет говорить, немного растерялся. Собираясь с мыслями, он окинул кухню и часть комнаты нарочито внимательным взглядом. Заметил много сваленных на пол вещей (должно быть, Валентина), увидел аккуратно приделанные полки, искусно выпиленные рукой хозяина или его сына, заметил хорошее зеркало в углу, телевизор в простенке — по всему было видно, что люди намеревались жить тут оседло, но вот сидят на чемоданах.
— Собираешься уезжать тоже?
Костин кивнул.
— Что же… Твое дело. Ты — глава семьи, тебе вожжи в руки, как раньше говаривали. Ну, а… что скажешь по нашему делу? Что же ты молчишь?
— Легко ли сказать? — Костин выдохнул, как простонал.
— Значит, сгоряча сказал, не решив окончательно, не подумав, а теперь стыдно слово менять. Так, что ли?
— Нет, Николай Иванович, не подумав, такое не говорят. Я не одну ночь провертелся без сна, думал, кто же я? Почему с меня требуют только работу, работу, работу и никто не поинтересуется, чего у меня есть и чего мне надо окромя работы? Или я бездушный трактор? Вы, говорю раз директору, поговорите со мной по-людски, может, я чего-нибудь стою как человек, а не как лошадь? Да разве он… — Костин махнул рукой. — Вон брат мой, Валентин, сразу в нем разобрался, а я все думал, что человек в заводе нервном. Отойдет. Нет, не из того теста! Не с той душой, видать, родился — не с человечьей.
— Не-е! — возразил Валентин. Он сидел на корточках, курил, — Тут смолоду, видать, поработано! Приучен!
Дмитриев пришел не за этим. Разговор у него был к Костину-хозяину, но разговор короче, предметнее, серьезнее.
— Павел, — обратился Дмитриев к нему. — Ты знаешь, зачем я пришел… Ты готов?
Павел повернул голову к окошку, придвинулся к свету, и стало видно его лицо, еще совсем молодое, энергичное. Молчал.
— Я тебя не тороплю. Хочу только одного: подумай, прежде чем ответить.
Павел тяжело передохнул, честно глянул прямо в глаза Дмитриеву и убежденно сказал:
— Не зря, Николай Иванович, придуман кандидатский… За это время к человеку присматриваются и человек примеряется к своему будущему, да и к самому себе тоже, только на себя по-иному глядишь… Я по-всякому себя крутил, с тем, с другим в мыслях рядом стоял, а рядом с директором — душа не велит…
— Директор совхоза — это не партия.
— Понимаю. Не маленький. Директор для меня — часть партии, вот я и примеряюсь к ней, подвожу себя к мерке, как на призывном пункте. Гляну на партию — маловат. На директора — великоват… — Он потупился, но тут же вскинул голову, дернул вверх белые кочки бровей: — Я так скажу, напрямую: какой прок партии от меня, если я здесь ничего не могу поделать, если не могу ни себя, ни людей оборонить от самодурства директорского? Прок-то какой от меня? Ну, выступлю — он меня подъедать начнет — сколько было так-то! А и не начнет, так вера все равно ему будет!
— Ты конкретно смотришь на вещи — это неплохо, только партбилет — не оружие против Бобрикова, это право и обязанность бороться, если надо, и с бобриковыми не одному за себя или даже за всех, а вместе со всеми за всех. Понял меня?
— С кем вместе-то? С кем? Все боятся его, а делать с ним надо что-то. Это же настоящий вражина, ей-богу! Только и знает: «давай, давай!» Да по всякому пустяку — приказ, штраф, выговор, лишение премии, увольнение не по закону. Сколько людей восстановилось через суд? Много! В суде знают его, хама, а там люди, наверно, не дураки. Он и Маркушева допек. Суд восстановил мужика на работу, так он воспользовался тем, что тот треснул Сорокину, а теперь судить будут человека, посадят от троих-то детей. Директор руки потирает — как же! Отомстил!
— Решение суда будет зависеть от показаний самой пострадавшей. Если она человек честный, то возьмет на себя часть вины за весь конфликт, как оно и было. Все от пострадавшей…
— Пострадавшей! Да, Николай Иванович, кто пострадавший-то? Маркушев и есть пострадавший-то! Он ли не натерпелся от директора — и обзывал, и копейкой пригнетал, и переселял из квартиры в квартиру. Казенная квартира — это теперь его главный козырь: народ можно не беречь. Он думает, настроил домов и проживет на приезжих? Верно, много приезжают, кому квартира нужна, а кого Бобриков заманит, только где они, приезжие-то? Кто сразу плюнул и уехал, а кто еще на чемоданах сидит, а кто на сторону смотрит — места ищет, где бы его человеком считали.
Дмитриев не рассчитывал на такую словоохотливость Костина, на собраниях тот неоднократно брал слово, говорил дельно, весомо, коротко, а тут никак не мог остановиться, видно, немало нагорело в душе. Брат его молча сидел у плиты, курил и улыбался, он смирился, очевидно, с тем, что в жизни его произошел заезд в эти несчастные Бугры, в этот совхоз, где его не оценили, где он не услышал доброго слова. Лицо его, навек загорелое в целинных степях, куда он уехал в те первые годы прямо из армии добывать хлеб стране, казалось не примиренным, но просто спокойным — лицо человека, знающего, в каком мире он живет. Дмитриев не опасался его присутствия, он понимал, что у братьев одна сейчас думка уехать.
— Расчет взял? — спросил он Костина.
— На днях пойдем вместе с женой: у той срок заявления кончается.
— Та-ак… — Дмитриев сцепил пальцы, вытянул руки поперек стола по новой, цветастой клеенке. — Значит, испугались Бобрикова? Да? Значит, бежать проще, чем тут…
— Что тут? — скосился Костин.
— Чем тут стоять за себя! — выкрикнул Дмитриев и уже не мог остановить в себе этот копившийся в разговоре порыв. — Бежите, как тараканы! Один погрозил — и все врассыпную от стука… Ждете, когда кто-нибудь за вас одернет этого… Очистить вам место — вы приедете, так сказать, на готовенькое!..
Под левым локтем, почти у самой стены, стоял стакан. Дмитриев со свету не заметил его поначалу, а тут, в этом неожиданном для себя порыве (нервы подвели), столкнул стакан на пол. Раздался звон стекла. Он не смутился, напротив — двинул осколки ногой к порогу мимо Валентина.
— На готовенькое? — поднялся тот.
— А как же? — принял вызов Дмитриев.
Валентин откинул окурок к ведру — не попал, не торопясь подошел, поднял и бросил в ведро. Сам хозяин настороженно поглядывал за братом, но тревожного ничего не уловил в его движениях. Валентин прошел мимо Дмитриева в другую комнату, хрупнул застежками чемодана, пошуршал и вновь появился, остановившись перед столом.
![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149744/149744.jpg)